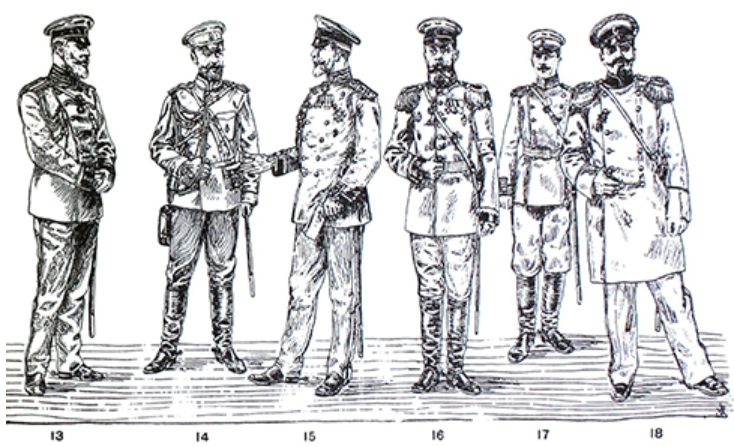Муравьёв
и адмирал Е. Путятин хотели укрыть фрегат «Паллада»
на
Амуре. Помимо военных планов там примешивались и личные причины. Если
бы удалось ввести «Палладу» в Амур, то все критики
Муравьёва прикусили бы языки.
Но как ни старался Орлов на неуклюжем слабосильном пароходике
«Аргунь» отыскать достаточно глубокий фарватер, ему
это не
удалось.
С «Паллады» перевезли на берег все грузы, даже
убрали часть
людей, чтобы добиться минимальной осадки, однако все труды и усилия
были напрасными.
Ложь Невельского была очевидной, но об этом никому не хотелось говорить.
«Палладу» отвели в Императорскую гавань, а позже,
по
приказанию Завойко, назначенного командовать морскими силами на
востоке, затопили, чтобы не дать повода противнику хвастаться
захватом фрегата, который, на самом деле, представлял собой просто
блокшив.
К слову сказать, впоследствии каждый водолаз, спускавшийся к
«Палладе», считал своим долгом отвинтить, отломать,
отрубить какую-нибудь деталь фрегата.
В советское время местное флотское начальство любило делать подобные
подарки партийным функционерам и московским чинам: не все из них читали
роман Гончарова «Фрегат «Паллада», но
даже двоечники
о нём тогда слышали в школе.
Иметь кусок знаменитого судна было престижно.
Дмитрий Иванович Орлов по 1855 год командовал наблюдательным постом в
Петровском. Это было, пожалуй, самым спокойным временем его семейной
жизни. Жилось в Петровском несладко, но, по крайней мере, его никто не
дёргал в командировки: Невельского, который его очень невзлюбил,
фактически отстранили от дел, всем руководил перебравшийся с Камчатки
Завойко.
Василий Степанович Завойко к тому времени блестяще отбил десант
противника в Петропавловске, без потерь перевёл к Амуру все суда,
перевёз гарнизон, жителей и всё имущество.
В 1855 году Орлову присвоили звание поручика, которого он лишился
шестнадцать лет назад. Закончилась война, уехали добрый и злой гении
– Завойко и Невельской.
Дмитрия Ивановича перевели в Николаевск, началась обычная морская
работа, наконец-то без подвигов.
В 1857 году за отличие по службе ему присвоили звание штабс-капитана
корпуса флотских штурманов, вернули личное дворянство. На воспитание
детей доплачивали 180 рублей серебром. У него их было уже четверо.
Деньги были весьма кстати, в Николаевске ничего дёшево не стоило.
Со старшими, дочерью Сашей и сыном Васей науками занимался Петров, уже
лейтенант. Школы в посёлке ещё не было, и Петров сам предложил свои
услуги. Дмитрий Иванович командовал пароходиком на Амуре, часто
отсутствовал. Помощь Петрова Орловы приняли с большой благодарностью.
Перенесённые испытания аукнулись смертельной болезнью. В 1859 году
Орлов заболел. В первый день Пасхи он надел мундир с наградами и сделал
несколько визитов друзьям. Больше из дома Дмитрий Иванович не выходил.
Он жаловался Петрову на холодность жены и на то, что она мало ему
уделяла внимания.
Но его друг считал, что Харитина Михайловна была сдержанной по
характеру, а четверо детей отнимали её время. Детей Дмитрий Иванович
любил. За день до смерти он сказал Петрову: «Мне не хочется
умирать, потому что жаль оставить после себя эту мелочь» и,
показав на детей, заплакал.
Штабс-капитан Орлов скончался в июне 1859 года. После его
смерти
вдова распродала скудное имущество и уехала из Николаевска в
Благовещенск, где, как ей казалось, было легче прожить на пенсию в 350
рублей, столь тяжко заработанную её мужем.
Фотографии или портреты Орлова не сохранились. А, скорее всего, их
никогда и не было.
Судьбу Натальи Пахомовой мне выяснить не удалось, для этого нужно было
ехать в Иркутск и работать там в архиве, искать её следы. Гадать на
кофейной гуще, высказывать свои догадки не хочется.
P.S. Такими словами я окончил это грустное повествование в
опубликованной книге. Однако, недавно, к своей великой радости,
обнаружил в воспоминаниях Алексея Евгеньевича Баранова, офицера,
сопровождавшего в плавании по Амуру генерал-губернатора Восточной
Сибири Муравьёва-Амурского, эпизод, в какой-то степени проливающий свет
на участь несчастной женщины.
Привожу его дословно: «Отъезжая из Петровска, генерал
некоторых
обнял и целовал, другим подставлял свою щёку или ограничивался кивком
головы, но на одного штурманского офицера, с совершенно седыми
волосами, но не очень старого по лицу и очень красивого, не обратил
никакого внимания, хотя тот всё время стоял на вытяжку без фуражки.
После я узнал, что офицер этот в молодости совершил убийство одного
служащего в Петропавловске (в Камчатке), совместно с его женою, с
которою был в близких отношениях. Оба они были сосланы в каторжные
работы, но, по ходатайству генерала Николая Николаевича Муравьёва, были
помилованы с возвращением прав состояния».
Конец
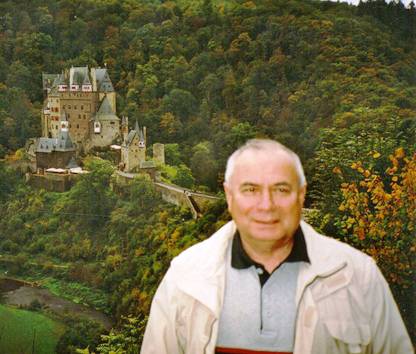
|
Владимир
Врубель
Официальный сайт
|
| Главная | Произведения | Сведения из первоисточников | Личное | Форум | Написать автору |
|
Рыцари в морских мундирах *** |