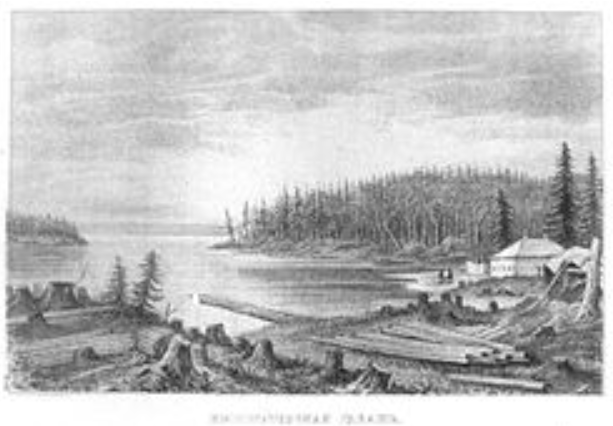Петров
решил вернуться вместе с Орловым. Изучать дорогу в Императорскую гавань
не было необходимости. Да и что бы дало его появление в
Константиновском посту, если бы случилось чудо, и он выполнил приказ
Невельского, добравшись живым до места? Стал ещё одним лишним ртом для
людей, умиравших с голода?
Петров отдал половину своих собак и провизии Орлову и его казаку, и
ранним утром 29 декабря они направились в Мариинский пост.
В Мариинском посту, несмотря на своё состояние, Дмитрий Иванович
задерживаться не хотел. Петров и оставшийся за начальника поста мичман
Григорий Данилович Разградский не стали его уговаривать отдохнуть и
набраться сил, хорошо понимая желание штурмана скорее увидеть жену и
детей. 31 декабря Орлов выехал в Петровское.
Свою семью он не видел полгода. Офицеры не решились отпустить его
одного, и Разградский поехал вместе с ним. Они доехали до Петровского
10 января 1854 года. Разградский передал Невельскому письмо от Петрова.
Тот докладывал: «Бог спас меня и Д.И. Орлова от голодной
смерти.
Когда я его встретил, он уже ехал месяц, а у меня провизии и корма
оставалось самое большее на семь дней.
Я его встретил в ужасном положении с последним куском сухаря, который
он сосал третий день. Собаки его два дня сряду от голода не шли с
места. Я чувствую себя, как будто весь избит. Отдохнут собаки, дня
через два, отправлюсь к Вам…».
Незадолго до возвращения Орлова в Петровское, гиляк передал Невельскому
отчаянное письмо Бошняка с просьбой о помощи, написанное 27 ноября. Это
письмо передавалось от селения к селению по цепочке.
Но только возвращение штурмана заставило Невельского действовать.
Рассказ и внешний вид Орлова потрясли людей. Начальник Амурской
экспедиции приказал Разградскому и Петрову собрать обоз с
продовольствием, медикаментами, уксусом и водкой для доставки в
Константиновский пост.
Продовольствия было кот наплакал, поэтому офицеры купили у гиляков
четырёх оленей.
Но никто из местных жителей не соглашался вести их в Императорскую
гавань. На перевалах лежал глубокий снег, и люди не хотели рисковать.
Тогда повёли обоз Разградский и два казака. Он дошёл до устья реки
Хунгари и там Разградский уломал-таки несколько местных жителей
доставить в Императорскую гавань нарты с продуктами. Вместе с ними он
прошёл свыше четырехсот вёрст к верховьям реки Мули. До
Константиновского поста оставалось ещё двести вёрст.
Непонятно, почему, когда оставалось практически всего ничего до цели,
Разградский поручил казакам и каюрам продолжить путь в Константиновский
пост, а сам 1 февраля повернул обратно в Мариинское. Единственно
возможное объяснение – он не нашёл в себе сил увидеть то,
чего с
ужасом ожидал.
Узнав об этом, Орлов, ещё окончательно не оправившись после своей
трагической одиссеи, невзирая на протесты и мольбы жены вновь
направился в Императорскую гавань. С собой он взял проверенного
товарища, казака Белохвостого, у которого тоже душа болела об
оставленных товарищах.
Погрузив на нарты последние крохи продовольствия для Константиновского,
они пустились в путь. Орлов появился в Императорской гавани почти
одновременно с каюрами и казаками Разградского.
Возвращение Орлова вселило надежду умиравшим людям. Но даже он, не раз
заглядывавший смерти в глаза, содрогнулся, увидев состояние зимовщиков.
Командир «Николая», М. Клинковстрем, был
вольнонаёмным штурманом.
В рапорте правлению Российско-американской компании, меньше
всего
думая о субординации, он резал правду-матку:
«…почти все,
не исключая офицеров и штурманов, страдали и лежали в болезнях, из
которых цинготная в разных видах была самая гибельная: труднобольные
ещё есть, и чем эта печальная драма кончится, неизвестно…
Люди по большей части иссохли, исхудали, и другие, так сказать,
двигаются и ходят, как тени и скелеты, с лицами жёлтыми, как воск, и
стоит только другому, так сказать, глаза закрыть – и мертвец
готов».
Двадцать девять крестов появились после этой ужасающей зимовки на мысе
Сигнальном в Императорской гавани. Умер каждый третий. Лейтенант Бошняк
физически оказался крепче всех, единственным оставаясь на ногах,
хоронил умерших товарищей. Но он надломился душевно.
В его коротких воспоминаниях есть слова, обращённые к человеку,
которого он не захотел назвать по имени: «Кому случалось
видеть
смерть честного русского солдата, тот поймёт меня, если я скажу:
безбожно и грешно жертвовать их жизнью для личных видов!». У
него
стала развиваться душевная болезнь. Свои дни Бошняк закончил в
лечебнице для умалишённых в Италии.
17 апреля в гавань вошёл корвет «Оливуца». Его
командир
капитан-лейтенант Н. Назимов, ознакомившись с обстановкой, сразу же
направил к больным врача со всеми необходимыми медикаментами,
организовал питание людей. От него же узнали о начавшейся войне с
Англией и Францией.
Теперь оставалось ожидать прихода вражеской эскадры. Назимов имел
приказание снять с Сахалина Муравьёвский пост, который не мог оказать
никакого сопротивления противнику. Орлов отправился вместе с ним, чтобы
помочь вместе с другими офицерами организовать эвакуацию имущества.
В Императорскую гавань он вернулся на пришедшем для помощи транспорте
«Иртыш». На нём же Орлов перешёл в Де-Кастри. Там
его
встретил Невельской, который приказал ему следовать на Амур, где
предстояла встреча сплава русских войск под командованием
генерал-губернатора Муравьёва.
Орлову вменялась лоцманская проводка барж в Николаевский
пост. С
этим поручением штурман успешно справился. Но с другим ему не повезло.
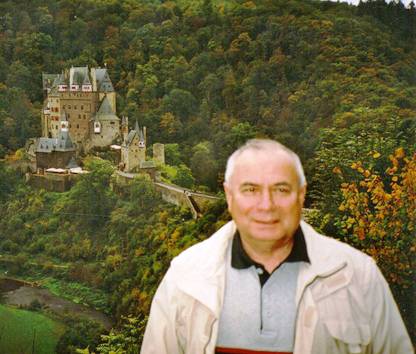
|
Владимир
Врубель
Официальный сайт
|
| Главная | Произведения | Сведения из первоисточников | Личное | Форум | Написать автору |
|
Рыцари в морских мундирах *** |